автофикшн-рассказ
Грибные места
Дарья Трайден
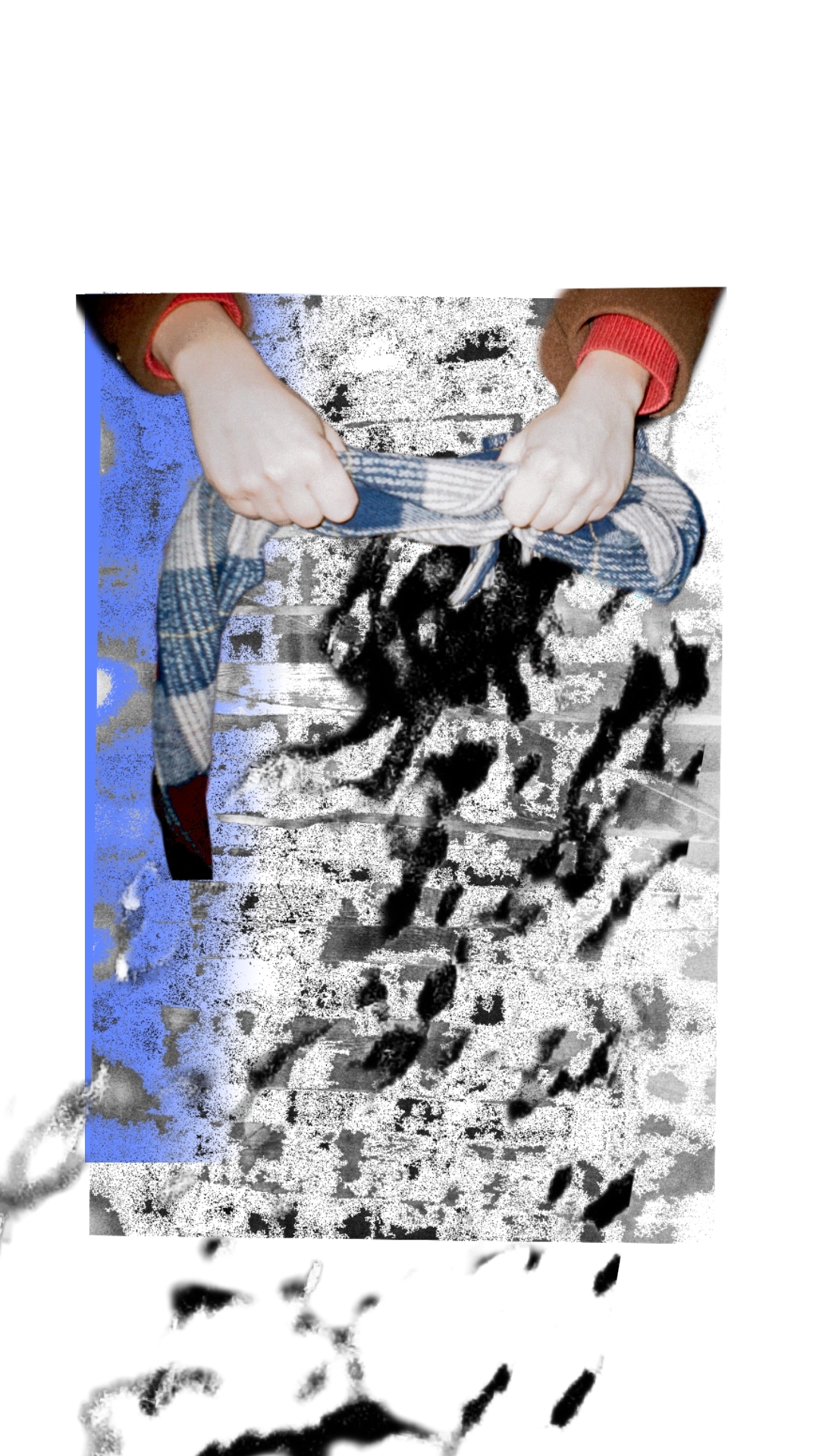

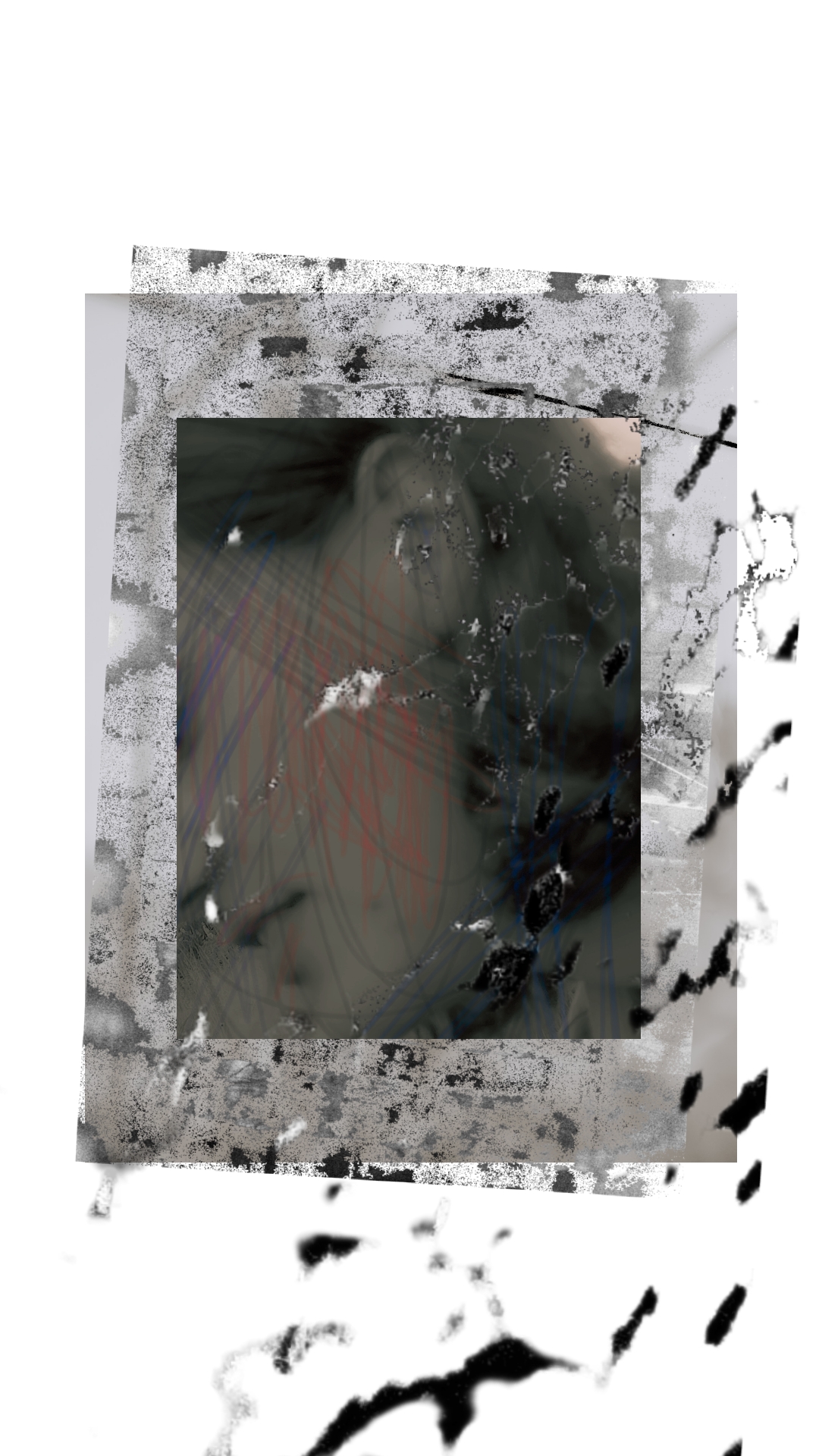






Как известно, лесбиянки – продукт городской культуры, порождение нарциссического индивидуализма и пресыщения. Кроме того, западного – в беларусских квартирах никто не посмел бы женским языком раздвигать половые губы, проскальзывать женскими пальцами внутрь упругих вагин. Мы все прямолинейны и однозначны в использовании своих органов и тканей, поскольку составляем уроборос традиции. По крайней мере, так хочется думать тем, кто действительно согнут в бараний рог слипшимися прошлым, настоящим и будущим.
На деле – вот она я, лесбиянка, купившая деревенский дом, беспокоящаяся о том, как бы переехать туда до холодов. Фактически я отношусь к первому городскому поколению семьи, но сущностно принадлежу к нему лишь отчасти – многочисленные кофты из флиса, бифлекса и стрейч-кулира, которые перемежают аккуратную минскую одежду, выдают мое двоедушие. Мое тело встроено в венозную грязь весенних полей, растворено в иголках розового осота, разрежено ледниковыми камнями. На склонах холмов мельтешат ящерицы, иногда мерцают ужи с желтыми ушами – это столь же живо и наполнено смыслом, как и трамвай, что приближается к НЦСИ. Трепещущие на ветру луга, дрожащие на автобусной остановке люди, твои алые щеки после той зимней ночи – всё едино.
Когда всё едино, это называют природой. Природой называют также то, что дико.Человек тянется к ней, однако осторожно: природа должна быть контролируемой, локализованной. Природа – это пожар. Это жадность. Это то, что совсем недавно существовало в виде данности, а теперь борется за выживание. Природа – это то, от чего страшно и восхитительно. Побуждаемые противоречивыми чувствами, мы уничтожаем и спасаем ее. Мы одинаково не можем жить как внутри, так и вне.Природа везде – как и любовь к тебе, о которой я пишу текст за текстом, пытаясь осознать ее, закрепить в каком-то одном варианте правды.
***
То, что ты тоже не принадлежишь городу, было одним из важных импульсов этой любви. Бредя по заброшенной деревне Каптаруны в компании других отдыхающих, я держалась ближе к твоему голосу. Ты искала грибы. Светя телефонным фонариком на распухшие от дождя деревья, ты указывала на бугры и точки, которые ни о чем мне не говорили. Ты подходила ближе, чтобы разглядеть получше, но все было не то: иссохший старый трутовик, изгиб коры, тень, травинка. Наконец попалось что-то стоящее. Ты сказала незнакомое название и подцепила гриб зубами. В твоей руке остался еще кусок, и ты предложила попробовать. Когда я потянулась к бесформенному коричневатому комку, ты вдруг отодвинула ладонь и забормотала, что вообще-то не так уж и уверена в этом грибе. Пока я жевала комок, который на вкус оказался как осень, ты продолжал предупреждать меня о его опасностях.
Я ходила за грибами лишь однажды. Меня взял с собой с дед, и мы принесли домой несколько крупных лисичек и один красавец-подберезовик. Дед учил меня плести кошыкі – деревенские корзины из ивовой лозы. Для красоты и прочности к лозе добавлялись ленты из пластика.
В детстве я злилась на деда за то, что он не ушел от бабушки, за его алкоголизм,беззащитность и грусть. За то, что мы ходили за грибами лишь однажды.
Сейчас я злюсь от того, что при жизни деда ничего не узнала об Индуре. Это мястэчка, где родился дед, было одним из крупнейших в Беларуси еврейских штетлов. Якимович – одна из типичных еврейских фамилий, которые возникли после того, как Речь Посполитую захватила Российская империя. Якимович – это значит «сын Иоакима».
Дед родился в 1934 году.
Он никогда не говорил и о войне.
За то, что я не узнала про Индуру, я злюсь не на деда, а на себя. Мне казалось, что времени всегда будет много, но однажды оно споткнулось, вывихнулось, закончилось. Мама позвонила мне, плача, и я отпросилась с пар.
Жизнь в Беларуси сейчас – тоже вывих.
Когда я говорю «нужно, наверное, увеличить дозу антидепрессантов», это кажется анахронизмом. Слова из будущего, из далёких земель, где есть рецепты на сложные лекарства, хорошо обжаренный кофе, коворкинги, широкие белые пуховики на расслабленных и радостных телах. В автобусе со мной едут пятидесятилетие женщины с массивными золотыми серьгами, малиновыми помадами и неподвижными укладками. Их внуки заикаются и горбятся, их дети отводят глаза. Я почти не вижу людей, на которых можно было бы смотреть с удовольствием заочной близости, без жестокого любопытства. Чтобы переносить Минск сейчас, мне нужно быть исследовательницей. Я высылать свое тело вперед, словно лошадь на ипподроме.
***
У деда не было лошадей. Точнее, несколько раз они ненадолго появлялись и снова возвращались в колхоз – лошади были не наши.
В конце зимы мы обе стали ездить верхом. Мы никогда не делали этого вместе – только обсуждали своих лошадей, конюшни и их владельцев. В этой синхронности, но отдельности была загадка, которая продолжает меня преследовать: как, вопреки расстоянию, возникает близость, как, вопреки близости, случается разрыв?
Когда прихожу в туалет вымыть руки, замечаю на правой щеке пятно лошадиной слюны. Темно-зеленое, состоящее из пережеванной травы, оно кажется мне очень красивым. Я думаю, какой будет моя возлюбленная, если часть меня – это такие пятна слюны, земли и другой славной грязи, а ещё запахи, а ещё восторг от земного и плотского. Мне не нравятся гель-лак, салонные брови, макияж, приталенная и короткая одежда, неудобная обувь, идеально расчесанные волосы, маленькие кожаные сумки. Всё это не способно вызвать во мне и капли того возбуждения, которое чувствовала от твоей грязной трудолюбивой тачки. «Отбрось мусор», – говорила ты всякий раз, когда я в нее садилась. Обычно я не успевала даже разглядеть, что нужно убрать, как ты сама доставала из-под сиденья пустые пластиковые бутылки и перекидывала их назад.
***
Какой будет моя возлюбленная, если это не ты? Безответная любовь – это мифология, в центре которой – единственное божество. Объединившая потенциалы христианства и язычества, безответная любовь непобедима. В ней есть мечта,приметы, сакральная боль, претерпевание, жертва. На ее фоне настоящие люди всегда проигрывают.
«Мне бы хотелось быть влюбленной в тебя», – не раз повторяла ты в самом начале. В конце твердила: «Я не влюблена. Я не вижу в тебе свою будущую жену».
You used to say. "Desire doubled is love and love doubled is madness."
Madness doubled is marriage
I added, –
пишет Энн Карсон.
Я думаю про то, почему любуюсь парами больше, чем женщинами поодиночке, почему всякий раз, когда навстречу идут люди со сплетенными руками, провожаю их взглядом, в котором вопрос, тоска, недоумение, зависть, облегчение, ужас, жажда.
Хочется понять про любовь что-то новое. Что-то такое, что давало бы надежду.
Когда я удалила твой номер телефона, стало только хуже: он врезался в память.
Почему мне было так больно от слова «жена»?
***
С отпевания деда пришлось уйти. Устав, я села, скрестив ноги – это оказалось грехом. Священник прошептал на ухо моей матери, что так нельзя. Я не стала менять позы и просто вышла. Брат пошел за мной, и мы бродили кругами по церковному двору, обсаженному туями, пока из церкви не вынесли два гроба: одновременно с моим дедом священник отпевал какую-то незнакомую покойницу. Мама заплатила за это 50 долларов.
Впервые еду по этой дороге, подумала я, увидев городскую свалку. Спустя секунду я поняла, что это не свалка, а кладбище. Земля, усеянная цветным пластиком венков, казалась покрытой мусором. Я вспомнила пластиковые ленты дедовых кошыкаў. Может ли быть, что кладбищенский пластик тоже что-то укрепляет? Например, границу между миром живых и миром мертвых, между смертоносной природой и городом, где смерти нет?
***
Листаю зины, которые забрала из офиса А. и вспоминаю, что много лет назад представляла свое будущее именно так: самиздатовское, подпольное, радикальное, угловатое. Выставки, которые я тогда видела, зины и книги, которые читала, были полны революционных заявлений и парадоксальных манифестов, с которыми нельзя было не согласиться, не почувствовав себя при этом ограниченной и трусливой. На рисунках Виктории Ломаско, Микаэлы и Хагры я видела гетеросексуальных женщин, лесбиянок, геев и трансгендерных персон, но не узнавала в них себя. Тогда это воспринималось как безусловный недостаток, отсутствие должной решимости, узость души. Слишком буржуазная, недостаточно левая, конформистка, мещаночка – так я втайне думала о себе. Сейчас я выиграла: ведь я люблю твои карманы, полные крошек и песка, твои морщинки, твою мокрую после езды на велосипеде майку, а ты сказала «красивое платье» на какую-то серую облегающую дрянь, которая была на мне, когда мы столкнулись в супермаркете «Корона». Есть точки, до которых неизменно больно дотрагиваться – рассказ становится неумным и слишком личным. Я больше не буду про это платье. И про то, как ты тогда не приехала, тоже не буду.
***
Любовь – не единственное, о чем я недоговариваю. Есть и другое. Оно огромно, как лес, но помещается в теле, как заноза. Я боюсь этого, и мое любовное одиночество делает страх сильнее.
Последний эпизод сна: мне нужно перейти желтую узкую реку, похожую на тропическую, но расположенную посреди беларусского поля. Внезапно останавливаюсь, понимая, что в воде лежит огромный крокодил. Моя спутница пронзает его копьём, как Георгий Победоносец, и длинное землисто-зеленое тело уплывает вниз по течению.
Но крокодил не умирает. Он продолжает разговаривать с нами, насмехаясь, мрачно пророчествуя, грозя. Я чувствую, что мы не можем победить крокодила. Он – зелёный лес, что пророс в наше тело множеством заноз. Он одет в черное. Он не один.
***
Окна нашей четырехэтажки смотрели на овраг, застроенный крошечными кустарными дачами. Летние кухни, хозблоки и сараюшки на небольших наделах земли простояли там больше двух десятилетий. Потом оказалось, что они построены незаконно. Дачи снесли. Яблони, оставшиеся от них, стали городским парком. Их расположение намекало на то, что деревья росли у снесённых домов. Такой же парк был рядом с домом, в который наша семья переехала позже. Беларусь полна краденых садов.
У меня не было бинокля, поэтому я рассматривала дачи в видоискатель серенькой мыльницы Praktica. Она добивала до Лососно – коттеджного поселка за рекой. Три дома, видневшиеся в просвете между черными далёкими соснами, принадлежали к другому миру. Мы с мамой и младшим братом ходили в Лососно гулять. Мама отмечала красный кирпич. Мы с братом соглашались, что это действительно хороший выбор. Нам всем нравились отлитые из бетона кривоватые львы, высокие металлические заборы и туи за ними. Когда забор был из металлических прутьев, мы могли видеть двор, и это делало прогулку ещё интереснее. При этом мы единодушно соглашались, что в нашем доме будет двухметровый забор из профлиста, сквозь который никто ничего не увидит.
Смогла бы я так к тебе привязаться, если бы не познакомилась с твоей семьей, не побывала в твоём доме? У тебя было так много того, о чем я мечтала, и это не могло не повлиять на силу моего чувства.
Дачи и машины казались нам роскошью вне зависимости от их состояния, ведь у нас не было даже самой старой тачки и развалюхи на шести сотках земли. Низший слой среднего класса был головокружительной высотой. Мы привыкли к этому головокружению, поэтому много мечтали. Так во время субботних прогулок по Лососно мы возвели десятки воображаемых домов. Я грезила о совсем мелких вещах вроде ананасового йогурта, сосисок и белого пористого шоколада – и о коттеджах с высокими заборами и львами. О том, как жила моя одноклассница Даша, – нет. Это было слишком реальным и слишком недостижимым. Нашей семье недоступна нормальность, но на чудо могут претендовать все. Мне казалось, что бедных от богатых отличает именно оно.
***
Наверное, поэтому ты показалась мне такой взрослой. Я привыкла думать о семьях твоего социального класса с недоуменным далеким восхищением – и вот я сижу за вашим огромным обеденным столом, твоя мама достает из духовки картошку и мясо, зажигает свечи, режет рождественский пирог. Может ли быть так, что мое лицо выразило подобострастие? Стало ли это одной из причин твоей нелюбви?
Дюпюи пишет: «Демонстрация желания – путь к поражению. Равнодушие, сосредоточенность на себе самом – вот что волнует других и заставляет их подчиняться. Субъект презирает себя, он беспрестанно ищет у других самодостаточность, которой так недостает ему самому. Ему кажется, что он находит ее в человеке равнодушном. Этому последнему, судя по всему, не нужен никто: он наслаждается своим собственным «я», он не страдает оттого, что ему чего-то не хватает». Эта длинная цитата, которую я много раз перечитывала так быстро, что слова скорее предугадывались, чем различались, была для меня откровением. Пока я переворачиваю страницы, моя собака кряхтит, визгливо зевает и пердит с лабрадорьим телесным бесстыдством. Она наслаждается собой и другими. Она откровенна, но это не кажется слабостью. Почему мы способны прощать бесхитростность лишь собакам?
Я всегда считаю месяцы на пальцах, про себя повторяя их порядок. Ноябрь-декабрь, один. Декабрь-январь, два. Январь-февраль, три. Февраль-март, четыре. Хватило четырех месяцев, чтобы я почувствовала себя опустошенной. Это сделала не столько твоя нелюбовь, сколько проблески нежности – от них всё, что я строила для защиты от тебя, разбивалось. Поэтому я начала спать с А., И., потом с Ю. и Д.
***
Математике меня учила Ирина Федоровна, мамина школьная учительница химии. При малейшей возможности мы с братом сбегали в ее светлый и чистый дом. Она не кричала на нас, как бабушка, не была угрюмой и потерянной, как дед. Она хорошо готовила и не выпивала. Еще у нее были пчелы и козы. Все в деревне держали коров, а козы были только у Анны Федоровны. Дед одно время возился с ульями, но потом пчелы перестали прилетать. Его шляпа с сеткой, почерневшая от времени, долго еще висела у входа в сарай. Я отчетливо помню запах этого сарая: пряность влажного дерева, мучнистый, едва уловимый аромат пшеницы и комбикорма, который бабушка воровала в своем колхозе. Она выносила смесь в специальном поясе, который надевался под одежду. Я любила запах этого пояса, но стыдилась того, что он существует.
Я вдавливаю лицо в слоистую жёсткую кору и чувствую, как сплющивается нос – пытаюсь ухватить и усилить твой запах. Иногда твои волосы пахли сырым лесным деревом. Мне хочется сдирать кору ногтями, вгрызаться в нее зубами, вырывать ветви, чтобы унести этот запах с собой. Вдали шумит МКАД, но если не знать об этом, звук можно принять за ветер. Деревья трещат и скрипят.
В солнечном луче парит крошечное сосновое семя. Светло-коричневая чешуйка беззвучно приземляется на мох. «Д-а-а-а-а-а-а-рья», – кричит И. Я отзываюсь лишь на второй раз: хочется стоять вот так, вжавшись лицом в сосновый ствол, потому что никак иначе мне не ощутить твою нежность.
***
Отправляю тебе фотографию облака, повернутую под специальным углом, думая про особую настройку нашей тонкой связи, а потом представляю тебя рядом. Как мы бы некрасиво и выматывающе ссорились в этом аэропорту, как ты сидела бы с лицом ненависти, скролля Тиндер, а я уходила быстрым шагом, невольно представляя какую-то другую любовь.
Так Питер Уолш расколдовывал для себя Клариссу, увещевал не тосковать по ней и не помнить – но что-то давало осечку.
Если договориться о том, что любовь – это необъяснимая и внезапная растерянность перед лицом чего-то понятного, то вот же она.
***
Комбикорм давали свиньям. Нужно было нагреть воду и влить ее в комбикорм, помешивая, пока масса не станет вязкой. Свиньи и коровы любили свеклу, морковь и яблоки – мы били их крепким изогнутым лезвием, чтобы измельчить. Их – это овощи и фрукты. Не знаю, чем убивали свиней и овец. Сейчас, когда я думаю об этом, мне представляется нож. Мама уводила нас с братом в дом и просила заткнуть уши. Мы должны были сидеть так, пока она не вернется. В эти минуты я почти не дышала.
Думаю, у деда был специальный огромный нож, которым было удобно перерезать горло. Существовало ли особое место, где это происходило? Наверняка это было в той части двора, что тянулась вдоль окон нашей спальни. Это пространство, где стояло несколько сараев, было окружено забором. В детстве я не придавала этому значения: подумаешь, забор. Теперь я понимаю, что он был нужен для тех редких, но важных дней, когда они забивали скот.
Я с детства ненавидела мясо. В конечном счете, я ненавидела деревню вообще. Счастье, которое я там ощущала, было связано с природой, оно существовало вопреки деревенским обычаям, для которых нужны были бедность, скука и жестокость.
***
Мои вещи карабкаются всё выше. Книги с погрызенными корешками и земляными серо–коричневыми следами в беспорядке втиснуты на не предназначенные для них полки, сложены неровными стопками на полу в другой комнате. Моя собака растет, у нее меняются зубы, поэтому ей хочется разрушений.
Я иду очень медленно. Сегодня солнечно, ветер приятный и лёгкий. Книги иногда бьют меня по бедру острыми и жёсткими углами. Днём любовь к табе кажется иглой мороза на одной щеке, солнечным лучом – на другой. Куда бы я ни пошла, это амбивалентное прикосновение следует за мной, отпечатанное на теле. Однако во тьме мороз и луч исчезают. Вечер и ночь – ад, и я в нём одна.
На деле – вот она я, лесбиянка, купившая деревенский дом, беспокоящаяся о том, как бы переехать туда до холодов. Фактически я отношусь к первому городскому поколению семьи, но сущностно принадлежу к нему лишь отчасти – многочисленные кофты из флиса, бифлекса и стрейч-кулира, которые перемежают аккуратную минскую одежду, выдают мое двоедушие. Мое тело встроено в венозную грязь весенних полей, растворено в иголках розового осота, разрежено ледниковыми камнями. На склонах холмов мельтешат ящерицы, иногда мерцают ужи с желтыми ушами – это столь же живо и наполнено смыслом, как и трамвай, что приближается к НЦСИ. Трепещущие на ветру луга, дрожащие на автобусной остановке люди, твои алые щеки после той зимней ночи – всё едино.
Когда всё едино, это называют природой. Природой называют также то, что дико.Человек тянется к ней, однако осторожно: природа должна быть контролируемой, локализованной. Природа – это пожар. Это жадность. Это то, что совсем недавно существовало в виде данности, а теперь борется за выживание. Природа – это то, от чего страшно и восхитительно. Побуждаемые противоречивыми чувствами, мы уничтожаем и спасаем ее. Мы одинаково не можем жить как внутри, так и вне.Природа везде – как и любовь к тебе, о которой я пишу текст за текстом, пытаясь осознать ее, закрепить в каком-то одном варианте правды.
***
То, что ты тоже не принадлежишь городу, было одним из важных импульсов этой любви. Бредя по заброшенной деревне Каптаруны в компании других отдыхающих, я держалась ближе к твоему голосу. Ты искала грибы. Светя телефонным фонариком на распухшие от дождя деревья, ты указывала на бугры и точки, которые ни о чем мне не говорили. Ты подходила ближе, чтобы разглядеть получше, но все было не то: иссохший старый трутовик, изгиб коры, тень, травинка. Наконец попалось что-то стоящее. Ты сказала незнакомое название и подцепила гриб зубами. В твоей руке остался еще кусок, и ты предложила попробовать. Когда я потянулась к бесформенному коричневатому комку, ты вдруг отодвинула ладонь и забормотала, что вообще-то не так уж и уверена в этом грибе. Пока я жевала комок, который на вкус оказался как осень, ты продолжал предупреждать меня о его опасностях.
Я ходила за грибами лишь однажды. Меня взял с собой с дед, и мы принесли домой несколько крупных лисичек и один красавец-подберезовик. Дед учил меня плести кошыкі – деревенские корзины из ивовой лозы. Для красоты и прочности к лозе добавлялись ленты из пластика.
В детстве я злилась на деда за то, что он не ушел от бабушки, за его алкоголизм,беззащитность и грусть. За то, что мы ходили за грибами лишь однажды.
Сейчас я злюсь от того, что при жизни деда ничего не узнала об Индуре. Это мястэчка, где родился дед, было одним из крупнейших в Беларуси еврейских штетлов. Якимович – одна из типичных еврейских фамилий, которые возникли после того, как Речь Посполитую захватила Российская империя. Якимович – это значит «сын Иоакима».
Дед родился в 1934 году.
Он никогда не говорил и о войне.
За то, что я не узнала про Индуру, я злюсь не на деда, а на себя. Мне казалось, что времени всегда будет много, но однажды оно споткнулось, вывихнулось, закончилось. Мама позвонила мне, плача, и я отпросилась с пар.
Жизнь в Беларуси сейчас – тоже вывих.
Когда я говорю «нужно, наверное, увеличить дозу антидепрессантов», это кажется анахронизмом. Слова из будущего, из далёких земель, где есть рецепты на сложные лекарства, хорошо обжаренный кофе, коворкинги, широкие белые пуховики на расслабленных и радостных телах. В автобусе со мной едут пятидесятилетие женщины с массивными золотыми серьгами, малиновыми помадами и неподвижными укладками. Их внуки заикаются и горбятся, их дети отводят глаза. Я почти не вижу людей, на которых можно было бы смотреть с удовольствием заочной близости, без жестокого любопытства. Чтобы переносить Минск сейчас, мне нужно быть исследовательницей. Я высылать свое тело вперед, словно лошадь на ипподроме.
***
У деда не было лошадей. Точнее, несколько раз они ненадолго появлялись и снова возвращались в колхоз – лошади были не наши.
В конце зимы мы обе стали ездить верхом. Мы никогда не делали этого вместе – только обсуждали своих лошадей, конюшни и их владельцев. В этой синхронности, но отдельности была загадка, которая продолжает меня преследовать: как, вопреки расстоянию, возникает близость, как, вопреки близости, случается разрыв?
Когда прихожу в туалет вымыть руки, замечаю на правой щеке пятно лошадиной слюны. Темно-зеленое, состоящее из пережеванной травы, оно кажется мне очень красивым. Я думаю, какой будет моя возлюбленная, если часть меня – это такие пятна слюны, земли и другой славной грязи, а ещё запахи, а ещё восторг от земного и плотского. Мне не нравятся гель-лак, салонные брови, макияж, приталенная и короткая одежда, неудобная обувь, идеально расчесанные волосы, маленькие кожаные сумки. Всё это не способно вызвать во мне и капли того возбуждения, которое чувствовала от твоей грязной трудолюбивой тачки. «Отбрось мусор», – говорила ты всякий раз, когда я в нее садилась. Обычно я не успевала даже разглядеть, что нужно убрать, как ты сама доставала из-под сиденья пустые пластиковые бутылки и перекидывала их назад.
***
Какой будет моя возлюбленная, если это не ты? Безответная любовь – это мифология, в центре которой – единственное божество. Объединившая потенциалы христианства и язычества, безответная любовь непобедима. В ней есть мечта,приметы, сакральная боль, претерпевание, жертва. На ее фоне настоящие люди всегда проигрывают.
«Мне бы хотелось быть влюбленной в тебя», – не раз повторяла ты в самом начале. В конце твердила: «Я не влюблена. Я не вижу в тебе свою будущую жену».
You used to say. "Desire doubled is love and love doubled is madness."
Madness doubled is marriage
I added, –
пишет Энн Карсон.
Я думаю про то, почему любуюсь парами больше, чем женщинами поодиночке, почему всякий раз, когда навстречу идут люди со сплетенными руками, провожаю их взглядом, в котором вопрос, тоска, недоумение, зависть, облегчение, ужас, жажда.
Хочется понять про любовь что-то новое. Что-то такое, что давало бы надежду.
Когда я удалила твой номер телефона, стало только хуже: он врезался в память.
Почему мне было так больно от слова «жена»?
***
С отпевания деда пришлось уйти. Устав, я села, скрестив ноги – это оказалось грехом. Священник прошептал на ухо моей матери, что так нельзя. Я не стала менять позы и просто вышла. Брат пошел за мной, и мы бродили кругами по церковному двору, обсаженному туями, пока из церкви не вынесли два гроба: одновременно с моим дедом священник отпевал какую-то незнакомую покойницу. Мама заплатила за это 50 долларов.
Впервые еду по этой дороге, подумала я, увидев городскую свалку. Спустя секунду я поняла, что это не свалка, а кладбище. Земля, усеянная цветным пластиком венков, казалась покрытой мусором. Я вспомнила пластиковые ленты дедовых кошыкаў. Может ли быть, что кладбищенский пластик тоже что-то укрепляет? Например, границу между миром живых и миром мертвых, между смертоносной природой и городом, где смерти нет?
***
Листаю зины, которые забрала из офиса А. и вспоминаю, что много лет назад представляла свое будущее именно так: самиздатовское, подпольное, радикальное, угловатое. Выставки, которые я тогда видела, зины и книги, которые читала, были полны революционных заявлений и парадоксальных манифестов, с которыми нельзя было не согласиться, не почувствовав себя при этом ограниченной и трусливой. На рисунках Виктории Ломаско, Микаэлы и Хагры я видела гетеросексуальных женщин, лесбиянок, геев и трансгендерных персон, но не узнавала в них себя. Тогда это воспринималось как безусловный недостаток, отсутствие должной решимости, узость души. Слишком буржуазная, недостаточно левая, конформистка, мещаночка – так я втайне думала о себе. Сейчас я выиграла: ведь я люблю твои карманы, полные крошек и песка, твои морщинки, твою мокрую после езды на велосипеде майку, а ты сказала «красивое платье» на какую-то серую облегающую дрянь, которая была на мне, когда мы столкнулись в супермаркете «Корона». Есть точки, до которых неизменно больно дотрагиваться – рассказ становится неумным и слишком личным. Я больше не буду про это платье. И про то, как ты тогда не приехала, тоже не буду.
***
Любовь – не единственное, о чем я недоговариваю. Есть и другое. Оно огромно, как лес, но помещается в теле, как заноза. Я боюсь этого, и мое любовное одиночество делает страх сильнее.
Последний эпизод сна: мне нужно перейти желтую узкую реку, похожую на тропическую, но расположенную посреди беларусского поля. Внезапно останавливаюсь, понимая, что в воде лежит огромный крокодил. Моя спутница пронзает его копьём, как Георгий Победоносец, и длинное землисто-зеленое тело уплывает вниз по течению.
Но крокодил не умирает. Он продолжает разговаривать с нами, насмехаясь, мрачно пророчествуя, грозя. Я чувствую, что мы не можем победить крокодила. Он – зелёный лес, что пророс в наше тело множеством заноз. Он одет в черное. Он не один.
***
Окна нашей четырехэтажки смотрели на овраг, застроенный крошечными кустарными дачами. Летние кухни, хозблоки и сараюшки на небольших наделах земли простояли там больше двух десятилетий. Потом оказалось, что они построены незаконно. Дачи снесли. Яблони, оставшиеся от них, стали городским парком. Их расположение намекало на то, что деревья росли у снесённых домов. Такой же парк был рядом с домом, в который наша семья переехала позже. Беларусь полна краденых садов.
У меня не было бинокля, поэтому я рассматривала дачи в видоискатель серенькой мыльницы Praktica. Она добивала до Лососно – коттеджного поселка за рекой. Три дома, видневшиеся в просвете между черными далёкими соснами, принадлежали к другому миру. Мы с мамой и младшим братом ходили в Лососно гулять. Мама отмечала красный кирпич. Мы с братом соглашались, что это действительно хороший выбор. Нам всем нравились отлитые из бетона кривоватые львы, высокие металлические заборы и туи за ними. Когда забор был из металлических прутьев, мы могли видеть двор, и это делало прогулку ещё интереснее. При этом мы единодушно соглашались, что в нашем доме будет двухметровый забор из профлиста, сквозь который никто ничего не увидит.
Смогла бы я так к тебе привязаться, если бы не познакомилась с твоей семьей, не побывала в твоём доме? У тебя было так много того, о чем я мечтала, и это не могло не повлиять на силу моего чувства.
Дачи и машины казались нам роскошью вне зависимости от их состояния, ведь у нас не было даже самой старой тачки и развалюхи на шести сотках земли. Низший слой среднего класса был головокружительной высотой. Мы привыкли к этому головокружению, поэтому много мечтали. Так во время субботних прогулок по Лососно мы возвели десятки воображаемых домов. Я грезила о совсем мелких вещах вроде ананасового йогурта, сосисок и белого пористого шоколада – и о коттеджах с высокими заборами и львами. О том, как жила моя одноклассница Даша, – нет. Это было слишком реальным и слишком недостижимым. Нашей семье недоступна нормальность, но на чудо могут претендовать все. Мне казалось, что бедных от богатых отличает именно оно.
***
Наверное, поэтому ты показалась мне такой взрослой. Я привыкла думать о семьях твоего социального класса с недоуменным далеким восхищением – и вот я сижу за вашим огромным обеденным столом, твоя мама достает из духовки картошку и мясо, зажигает свечи, режет рождественский пирог. Может ли быть так, что мое лицо выразило подобострастие? Стало ли это одной из причин твоей нелюбви?
Дюпюи пишет: «Демонстрация желания – путь к поражению. Равнодушие, сосредоточенность на себе самом – вот что волнует других и заставляет их подчиняться. Субъект презирает себя, он беспрестанно ищет у других самодостаточность, которой так недостает ему самому. Ему кажется, что он находит ее в человеке равнодушном. Этому последнему, судя по всему, не нужен никто: он наслаждается своим собственным «я», он не страдает оттого, что ему чего-то не хватает». Эта длинная цитата, которую я много раз перечитывала так быстро, что слова скорее предугадывались, чем различались, была для меня откровением. Пока я переворачиваю страницы, моя собака кряхтит, визгливо зевает и пердит с лабрадорьим телесным бесстыдством. Она наслаждается собой и другими. Она откровенна, но это не кажется слабостью. Почему мы способны прощать бесхитростность лишь собакам?
Я всегда считаю месяцы на пальцах, про себя повторяя их порядок. Ноябрь-декабрь, один. Декабрь-январь, два. Январь-февраль, три. Февраль-март, четыре. Хватило четырех месяцев, чтобы я почувствовала себя опустошенной. Это сделала не столько твоя нелюбовь, сколько проблески нежности – от них всё, что я строила для защиты от тебя, разбивалось. Поэтому я начала спать с А., И., потом с Ю. и Д.
***
Математике меня учила Ирина Федоровна, мамина школьная учительница химии. При малейшей возможности мы с братом сбегали в ее светлый и чистый дом. Она не кричала на нас, как бабушка, не была угрюмой и потерянной, как дед. Она хорошо готовила и не выпивала. Еще у нее были пчелы и козы. Все в деревне держали коров, а козы были только у Анны Федоровны. Дед одно время возился с ульями, но потом пчелы перестали прилетать. Его шляпа с сеткой, почерневшая от времени, долго еще висела у входа в сарай. Я отчетливо помню запах этого сарая: пряность влажного дерева, мучнистый, едва уловимый аромат пшеницы и комбикорма, который бабушка воровала в своем колхозе. Она выносила смесь в специальном поясе, который надевался под одежду. Я любила запах этого пояса, но стыдилась того, что он существует.
Я вдавливаю лицо в слоистую жёсткую кору и чувствую, как сплющивается нос – пытаюсь ухватить и усилить твой запах. Иногда твои волосы пахли сырым лесным деревом. Мне хочется сдирать кору ногтями, вгрызаться в нее зубами, вырывать ветви, чтобы унести этот запах с собой. Вдали шумит МКАД, но если не знать об этом, звук можно принять за ветер. Деревья трещат и скрипят.
В солнечном луче парит крошечное сосновое семя. Светло-коричневая чешуйка беззвучно приземляется на мох. «Д-а-а-а-а-а-а-рья», – кричит И. Я отзываюсь лишь на второй раз: хочется стоять вот так, вжавшись лицом в сосновый ствол, потому что никак иначе мне не ощутить твою нежность.
***
Отправляю тебе фотографию облака, повернутую под специальным углом, думая про особую настройку нашей тонкой связи, а потом представляю тебя рядом. Как мы бы некрасиво и выматывающе ссорились в этом аэропорту, как ты сидела бы с лицом ненависти, скролля Тиндер, а я уходила быстрым шагом, невольно представляя какую-то другую любовь.
Так Питер Уолш расколдовывал для себя Клариссу, увещевал не тосковать по ней и не помнить – но что-то давало осечку.
Если договориться о том, что любовь – это необъяснимая и внезапная растерянность перед лицом чего-то понятного, то вот же она.
***
Комбикорм давали свиньям. Нужно было нагреть воду и влить ее в комбикорм, помешивая, пока масса не станет вязкой. Свиньи и коровы любили свеклу, морковь и яблоки – мы били их крепким изогнутым лезвием, чтобы измельчить. Их – это овощи и фрукты. Не знаю, чем убивали свиней и овец. Сейчас, когда я думаю об этом, мне представляется нож. Мама уводила нас с братом в дом и просила заткнуть уши. Мы должны были сидеть так, пока она не вернется. В эти минуты я почти не дышала.
Думаю, у деда был специальный огромный нож, которым было удобно перерезать горло. Существовало ли особое место, где это происходило? Наверняка это было в той части двора, что тянулась вдоль окон нашей спальни. Это пространство, где стояло несколько сараев, было окружено забором. В детстве я не придавала этому значения: подумаешь, забор. Теперь я понимаю, что он был нужен для тех редких, но важных дней, когда они забивали скот.
Я с детства ненавидела мясо. В конечном счете, я ненавидела деревню вообще. Счастье, которое я там ощущала, было связано с природой, оно существовало вопреки деревенским обычаям, для которых нужны были бедность, скука и жестокость.
***
Мои вещи карабкаются всё выше. Книги с погрызенными корешками и земляными серо–коричневыми следами в беспорядке втиснуты на не предназначенные для них полки, сложены неровными стопками на полу в другой комнате. Моя собака растет, у нее меняются зубы, поэтому ей хочется разрушений.
Я иду очень медленно. Сегодня солнечно, ветер приятный и лёгкий. Книги иногда бьют меня по бедру острыми и жёсткими углами. Днём любовь к табе кажется иглой мороза на одной щеке, солнечным лучом – на другой. Куда бы я ни пошла, это амбивалентное прикосновение следует за мной, отпечатанное на теле. Однако во тьме мороз и луч исчезают. Вечер и ночь – ад, и я в нём одна.
